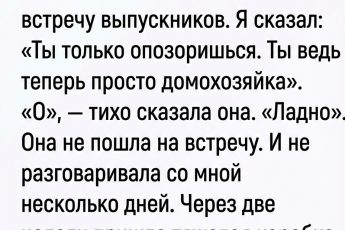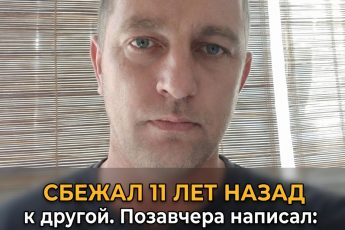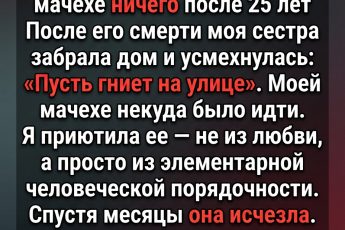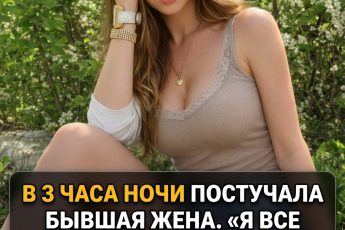У входной двери стоял чемодан. Не курортный, мягкий и раздувшийся от пляжных мелочей, а другой — строгий, угловатый, будто нарочно сделанный, чтобы резать глаз. Рядом с ним ёрзала девушка.
Такие сразу бросаются в глаза: худые, с коленями острыми, словно лезвия, и с выражением лица человека, который всё подсчитывает заранее.

Чуть поодаль маячил Борис. Он нервно крутил пуговицу на вороте рубашки. Та держалась на честном слове — одна нитка, и всё. Я давно собиралась её пришить, да всё откладывала: то давление подскочит, то рассаду на окне нужно переставить.
Теперь, как выяснилось, и смысла уже нет.
— Вера… — начал он. Голос был скрипучий, как у дверцы нашего старого шкафа, который давно просил каплю масла. — Вера, познакомься. Это Алиса.
Алиса повела плечом, поправляя тонкую лямку дешёвого топа. От неё тянуло сладким, приторным ароматом — карамелью, химической и липкой. Этот запах мгновенно вытеснил из квартиры нормальный, домашний дух жареной картошки.
— Мы решили… вернее, я решил… — Борис дёрнул пуговицу, и та с сухим щелчком отлетела.
Она упала на пол и укатилась под тумбу для обуви. Я машинально проследила за ней взглядом.
— Ты у нас женщина разумная, Вера. Мы с тобой… ну, жизнь прожили. Большую. Но ты и сама видишь… Ты устала.
Он замялся, подбирая слова.
— Ты… уже не молодая, Вер. А мне хочется жить. Дышать полной грудью.
Он даже попытался продемонстрировать этот самый вдох, но тут же закашлялся. Курил он с подросткового возраста, лёгкие у него свистели, как старый чайник с накипью. Алиса брезгливо отступила в сторону.
Я молчала. Медленно вытирала руки о передник.
На нём красовалось жирное пятнышко — маленькое жёлтое солнце. Я терла его пальцем, будто надеялась стереть не только след масла, но и чемодан, и девицу, и весь этот фарс.
— И где же вы собираетесь… дышать? — спросила я негромко.
— Здесь, — быстро вставила Алиса. Голос у неё был высокий, резкий, как струна, которую перетянули. — Борис сказал, квартира большая, трёхкомнатная. Всем места хватит.
Она окинула прихожую оценивающим взглядом. Обои старые, но чистые.
— Временно, — добавила она уже тоном хозяйки. — Пока мы что-то своё не найдём.
— Спальню отдашь нам, — пробурчал Борис, упорно не поднимая глаз. — А ты в маленькую переберёшься. Там диван есть. Ты же всё равно плохо спишь, крутишься…
Внутри ничего не оборвалось. Просто стало пусто, как в банке, из которой выпили весь сок.
Я посмотрела на вешалку. Его плащ — серый, потёртый — висел, как всегда. Я каждое утро проходилась по нему щёткой. Интересно, кто теперь будет этим заниматься?
— Ладно, — сказала я.
Борис вздрогнул. Он ждал истерики, крика, разбитой посуды. Я видела, как у него дергается жилка на виске.
А я просто сняла передник и аккуратно повесила его на крючок.
— Постельное в комоде, второй ящик. Только вчера стирала. Полотенца в ванной, чистые.
Я прошла в маленькую комнату и закрыла дверь до характерного щелчка. Замок у нас хитрый — ручку надо чуть приподнять. Борис это знал. Алиса — нет.
Ночью квартира жила своей привычной, скрипучей жизнью.
Гудел старый холодильник, купленный ещё в конце девяностых. Он вздрагивал, включаясь, словно жаловался на возраст. За стеной бормотал телевизор у соседей — тревожные интонации новостей.
Но главные звуки доносились из спальни.
Сначала голоса. Борис говорил тихо, заискивающе. Алиса отвечала резко, с капризом. Потом заскрипела кровать.
Хорошая кровать, дубовая. Но одна ламель слева треснула полгода назад. Я тогда подложила журналы, чтобы матрас не проваливался.
Борис об этом не знал. Он всегда спал с другой стороны. А теперь на «опасной» половине оказалась Алиса.
Я лежала на узком диване, укрывшись колючим шерстяным пледом, который всё собиралась отвезти на дачу.
В окно бил свет фонаря, выхватывая из темноты угол шкафа и стопку книг.
Обиды не было. Была холодная, почти медицинская ясность. Словно вымыла грязное окно и увидела не сад, а мусорные баки.
Борис считал, что привёл в дом молодость. На деле он привёл ревизора. И проверка эта касалась не меня.
Я слышала, как он вставал ночью, шаркал в туалет, кашлял на кухне, звенел ложкой в стакане, искал соду. Она стояла на верхней полке, но он, конечно, забыл.
Утром я встала на рассвете. Небо было цвета застиранной простыни.
На кухне пахло чужими духами и застоявшимся воздухом. Форточка была плотно закрыта — Борис всегда боялся сквозняков.
Я распахнула окно. Ворвался холодный воздух с запахом мокрого асфальта. Стало легче.
Я поставила чайник — наш старый, эмалированный, с отбитыми краями. Он шумел долго и обстоятельно.
Пока грелась вода, я достала синюю папку с завязками.
Мою «чёрную бухгалтерию», как шутил когда-то Борис.
Я разложила на столе свой пасьянс.
Квитанция за квартиру. Сумма — тяжёлая, пугающая.
Бумаги из банка — кредит за машину, который платила я.
Аптечный список — таблетки, мази, прокладки, снотворное. Итоговая сумма превышала прожиточный минимум.
И, наконец, диета. Всё протёртое, паровое, свежее. Дважды в день.
Я смотрела на это и видела не героя-любовника, а пожилого пациента с дорогим обслуживанием.
Я вышла из дома, села в парке на скамейку, кормила голубей семечками и думала, каково это — не возвращаться.
Но вернулась.
Дверь квартиры была распахнута.
Борис сидел на кухне один. Перед бумагами. Руки дрожали. На столе — кружка с ярким следом помады. Чемодана не было. Пахло валерьянкой.
— Она ушла… — всхлипнул он. — Сказала, что я нищий.
Я молча вымыла руки.
— Мазь в тумбочке, — сказала спокойно.
Взяла кружку, посмотрела на неё и уронила в ведро.
Дзынь.
— Есть хочешь? — спросила я. — Овсянка есть.
— Хочу… — прошептал он.
Я включила газ. Квартира снова была моей.
А пуговицу я всё-таки перешью. Непорядок, когда болтается.