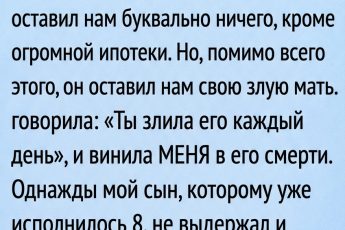Элеонора застыла на месте, сжимая в ладонях миниатюрные, почти игрушечные грабельки; пальцы сами разомкнулись от неожиданности. Деревянная ручка мягко цокнула о сухую, растрескавшуюся почву. Она даже не успела вдохнуть поглубже, настолько внезапно и пронзительно прозвучал у неё за спиной голос. Он напоминал скрип древнего, пересохшего дерева, и при этом звучал с такой непоколебимой уверенностью, что по коже Элеоноры пробежал ледяной холодок.
– Ничего у тебя, милая, не растёт, потому что к тебе покойник в гости ходит. Не замечаешь? А ты присмотрись, доченька, внимательнее, – произнесла незнакомая старушка, глянув на Элеонору тяжёлым, требовательным взглядом, в котором сочетались строгость и крохотная искорка жалости. Глаза её будто выцвели от лет, но сохраняли пугающую ясность и проницательность.
Элеонора медленно, почти как заведённая, повернулась и впервые действительно всмотрелась в тот самый кусок земли перед своим новеньким, желанным домом. Сердце стянула странная тоска. Эту картину она видела ежедневно, но только теперь до конца осознала её смысл. У аккуратного резного заборчика, предмета её особой гордости, лежал совершенно мёртвый, словно выжженный участок. Ни травинки, ни хилого стебелька, ни намёка на жизнь. А позади дома, на заботливо ухоженных грядках и в клумбах, всё жило и пышнело: распускались розы, тянулись к свету бархатцы, наливались зеленью кусты смородины. Контраст резал взгляд и казался почти неестественным. Она уже не раз пыталась «оживить» эту землю: подкармливала, рыхлила, поливала – чуть ли не слезами отчаяния. Без толку.

В этот день, поглощённая садовыми хлопотами, она даже не заметила, как к распахнутой настежь калитке приблизилась худенькая, согнутая годами, но несгибаемая духом незнакомка.
– Ещё бы вечернее бальное платье надела – нарядно-то как копаться в чёрной земле, – с лёгкой, незлой усмешкой оглядела старушка её образ: дорогой, безупречно сидящий розовый топ и такие же велосипедки из «умной» ткани.
Элеонора машинально взглянула на себя, отбросила со лба выбившуюся рыжую прядку. На лице мелькнуло смущение.
– Это… это специальная форма, бабушка. Для сада. Ткань дышит, удобная… – тихо попыталась оправдаться она. – И соседи у нас… посёлок новый, все ходят опрятно, красиво… Чистота, порядок… Никто не жил раньше, всё с нуля…
Но старушка уже не слушала. Повернулась, опёрлась на самодельный посох, изогнутый, словно клюшка, и неторопливо зашаркала прочь, растворяясь в летней пыли за поворотом дороги. Элеонора осталась неподвижна, и в ушах звенела тишина – звонкая, оглушающая, прерываемая только тревожным биением её сердца.
«Как же так? – лихорадочно метались мысли, пока она снимала садовые перчатки и по привычке проверяла идеальный маникюр. – С чего это покойник стал наведываться именно ко мне, в мой светлый, новый дом? Кто он? Зачем идёт?»
К счастью, перед этим поспешным отъездом из шумного мегаполиса в пригородную тишину она успела закончить курсы маникюра. «Руки теперь всегда при деле и в полном порядке, – с горькой иронией отметила она. – Вот бы и с садом так: чтобы всё росло, цвело и радовало без всяких привидений».
Мужу, вечнозанятому и практичному Дмитрию, она не сказала ни слова о странной гостье. Побоялась насмешливого, рационального комментария. Но разговор застрял в голове и возвращался снова и снова, превращаясь в навязчивую идею. Не помогали ни самые современные удобрения, ни советы из интернета, ни опыт бывалых соседей-дачников. Перед домом по-прежнему лежала пустынная, высохшая, мёртвая полоса земли – как надгробная плита.
Элеонора любила садоводство по-настоящему. Прошла онлайн-обучение, скупила кипы красивых журналов, вдохновлялась чужими историями. Ей нравилось чувствовать землю ладонями, вдыхать её терпкий запах, заботиться о нежных ростках. И, что важно, многое уже получалось. Но этот злосчастный клочок у парадной дорожки будто был отрезан невидимой стеной от всего живого – не поддавался ничему.
– Похоже, всё-таки придётся приглашать дорогого специалиста по ландшафту и почвам, – с печальной решимостью думала она, глядя из окна на чёрное пятно, своё немое посрамление. – Хотя… если у нас и впрямь бродит такой… эфемерный визитёр… сомневаюсь, что помогут и они.
Минуло несколько дней. Досмотрев ещё одно подробное видео на канале опытного огородника, Элеонора отложила телефон. За окном стояла глухая, беззвёздная ночь. Дмитрий уже давно спал, похрапывая в такт своим деловым заботам; и ей самой пора бы лечь, но сон упорно не приходил.
– Какая душная ночь… Дышать нечем, – прошептала она и, скинув с себя шёлковое одеяло, подошла к стеклянной двери, ведущей на просторный балкон.
Тихонько распахнув дверь, она шагнула под прохладный ночной свод. Воздух оказался чистым, сладковатым, дышалось легко. С высоты второго этажа тот злосчастный угол перед домом почти не просматривался: его прятали свес крыши и густая тень раскидистого клёна. И всё же Элеонора, поддавшись внезапному импульсу, наклонилась через ледяные перила, вглядываясь в вязкую темноту, где лежала неплодородная земля.
И тут она его заметила.
Под острым, словно подточенным, серпом месяца, пробивавшимся сквозь рваные клочья облаков, по вскопанной, но безжизненной полосе бродила какая-то фигура. Мужчина. Он стоял к ней спиной. Движения у него были странно вязкими и медленными, будто он шёл сквозь плотную, невидимую толщу. Он не просто мерил землю шагами: приседал на корточки, вновь выпрямлялся, ковырял носком старомодного ботинка почву, гладил её длинными, бледными пальцами, словно что-то выискивая или разыскивая.
Сердце Элеоноры сперва остановилось, а затем забилось так яростно, что её затрясло. Она не моргая всматривалась в темноту, пытаясь ухватить подробности. И чем больше смотрела, тем яснее понимала — с ним неладно. Он был… полупрозрачен. Лунный свет пробивался сквозь его худое тело в старинном пиджаке. Движения казались не просто медлительными — в них не было земной тяжести, они перечёркивали привычную физику. Это точно был не живой человек.
Она ощутила, как предательски подкашиваются колени, а в висках набухает чёрная, липкая волна паники, грозящая отнять сознание. Элеонора могла бы сорваться с балкона прямо на острые камни альпийской горки, но в тот миг мужчина повернул голову.
Он посмотрел прямо на неё. Лицо — чужое, гладкое, лишённое мимики, будто высеченное из бледного камня. Пышные, «старорежимные» усы, волосы, уложенные на прямой пробор. И глаза — пустые, тёмные, без дна.
Внезапно этот мужчина, этот призрак поднял руку. Нет — метнул вперёд обе, будто желая сквозь расстояние и высоту дотянуться до неё, стиснуть горло, коснуться ледяными пальцами. Элеоноре почудилось, что мрачное, мертвенно-бесстрастное лицо надвигается, становится ближе, ближе, пока не заполняет всё вокруг… Она, издав глухой, сдавленный звук, оттолкнулась от перил и, спотыкаясь, рухнула назад — в спальню, на холодный пол.
Отыскать ту старушку оказалось удивительно легко. Элеонора не сомневалась: такая женщина в их стерильном, новеньком коттеджном посёлке не живёт. Значит, искать следует по ту сторону моста, в старой, забывшейся деревеньке. Узнать, где именно обитает «та, что видит мёртвых», труда не составило — достаточно было спросить у бабушек на лавочке у колодца.
Она притормозила аккуратный городской хэтчбек у покосившегося, давно не крашенного домишки с резными, но облупленными наличниками. Калитка держалась словно на честном слове и одной ржавой петле, и Элеонора решила, что лучше не пробовать её тревожить.
– Бабушка! – позвала она, робко заглядывая в щель между тёмными досками забора. – Бабушка Вера? Меня зовут Элеонора! Вы на прошлой неделе говорили… про мой участок… что у меня там… гость…
Дверь жалобно скрипнула, и на пороге показалась та самая старушонка. Она прищурилась, разглядывая незваную посетительницу.
– Господи Иисусе… Снова принарядилась, как на парад, – негромко, но отчётливо произнесла она, окинув критическим взглядом шифоновую тунику и изящные босоножки на каблуках. Махнула рукой, будто смиряясь: – Проходи уж, раз пришла! Только каблуки о мои половицы не сломай. Ну, что тебе надобно?
Переступив порог, Элеонора почувствовала, как к горлу подкатывает тяжёлый ком.
– Он… он действительно приходит. Топчется там, где вы показали. Я видела его… прошлой ночью… – голос дрожал. – Я подумала… если вы таких видите и не пугаетесь, значит, сталкивались с этим прежде. Может, знаете… как его… отпроводить? – Она судорожно теребила пальцы, и её безупречный маникюр блеснул в полутьме сеней.
– Думала… правильно думала, детка, – кивнула старушка, и в глазах мелькнуло что-то сложное, неразгаданное. – Хочешь, чтобы я его прогнала?
Элеонора только кивнула. Потом спохватилась, распахнула изящную кожаную сумочку и вытащила несколько крупных, хрустящих купюр.
– Я не знаю… сколько это стоит обычно. Я не жадная, честно! Если потребуется больше — съезжу к банкомату. Скажите сумму!
Старушка, которую звали Вера Петровна, внимательно посмотрела сперва на деньги, затем прямо в глаза Элеоноре. Взгляд её смягчился.
– Довольно, – сказала она тихо, почти ласково. – Помогу. Проходи, присаживайся, сейчас… – Она осеклась и виновато опустила взгляд. – Чаем не угощу. Иссяк вчера. А магазин за три версты — старые кости неохотно ходят.
Элеонора робко присела на краешек покрашенной табуретки и украдкой оглядела комнату. На единственном окне — чистый, но неоднократно штопанный тюль. Скатерти на столе не было, и глубокие трещины на когда-то лакированной поверхности ничто не скрывало. У старого буфета отломана дверца, внутри зияла пустота. Пустая стеклянная сахарница. Рядом — пустая плетёная хлебница. Бедность. Пустота. Одинокость.
– Достанешь из холодильника бутылочку, прозрачную, – крикнула из соседней комнаты Вера Петровна. – Там травяной настой, мой. И вкусный, и целебный. Попробуй. И мне плесни. Горчит слегка, зато сил поддаёт.
Элеонора открыла древний, потрескивающий холодильник — сердце сжалось сильнее. Кроме скромной полулитровой бутылки с мутноватым питьём там лежали три яйца, начатая трёхлитровая банка квашеной капусты и пустая, вытертая до блеска маслёнка.
«Господи… – кольнуло остро. – Она живёт… вот так. А я явилась на дорогой машине и в шёлковом платье».
– Нашла? – донёсся голос.
– Да, бабушка Вера, несу!
Старушка вышла, протянула небольшой тугой свёрток из простой газеты, перевязанный бечёвкой.
– Вот. Закопаешь у себя там. Неглубоко, на штык лопаты. Через три дня твой гость уйдёт и не вернётся. Не пугайся — там лишь травы, сухие веточки, ягоды лесные… всё на добро заговорено. Ну как, отвар?
Элеонора пригубила горьковато-душистую жидкость.
– Очень, – искренне улыбнулась она, бережно беря свёрток. – Огромное спасибо. А можно… я вас чем-нибудь угощу? – вдруг выпалила и замялась. – Я перед приездом в магазин зашла… у меня привычка: если акция — беру сразу два, а потом не знаю куда девать. Может, вам пригодится? Сейчас принесу!
Не дожидаясь ответа, она выбежала и вернулась с огромным бумажным пакетом, едва удерживая. Начала выкладывать покупки на стол, тараторя без остановки:
– Масло подсолнечное… зачем два? Я же на пару готовлю, у Дмитрия, у мужа, желудок капризный… Чай… ой, чёрный, а мы дома зелёный пьём… Сладости… люблю, но надо худеть, да и шоколада полно… Печенье возьмёте? С чаем самое оно! Пастилу зачем-то схватила… не фанат я её. Мясо… ой, набрала же! А морозилка забита! Вы не обидитесь, если оставлю? Крупы ещё… бурый рис, зелёная гречка. Полезно. Мужу назначили диету — я курсы по питанию прошла, теперь только такое и беру…
Она аккуратно складывала продукты в угол стола и никак не решалась поднять глаза. Было неловко. Страшно, что старушка воспримет это как подачку и обидится.
Когда же осмелилась взглянуть, увидела, как по морщинистым щекам Веры Петровны тихо катятся светлые слёзы. Та молча вытерла их краешком платочка.
– Спасибо тебе, доченька, – прошептала так тихо, словно шуршали листья за окном.
– Это вам спасибо, – с облегчением выдохнула Элеонора и сделала вид, будто ничего не заметила. – Я поеду, участок спасать! Но… если можно, я к вам ещё загляну? С вами… хорошо.
Она зарыла свёрток там, где велено. С той поры угрюмого усатого мужчину больше не видела. А ровно через неделю, как обещала старушка, на прежней «мертвой» земле показались первые робкие всходы. Сорная зелень — одуванчик, какая-то трава. Элеонора плакала от счастья: земля ожила.
В тот же день Вера Петровна, опираясь на палку, медленно дошла до старого, заброшенного сельского погоста. Шла узкой тропинкой, кивая невидимым знакомым. Остановилась у неухоженной, будто безымянной могилы. Если присмотреться, на потрескавшем, посеревшем камне проступала старая фотография — строгий мужчина с пышными усами.
– Спасибо тебе, Пётр Степанович, – тихо сказала она, опускаясь на колени и выдёргивая сухую траву. – Выручил. И я тебе помогу: приберу тут. Пусть чисто будет, аккуратно… А ты ступай. Покойся с миром. Спасибо.
Через две недели Элеонора снова приехала к Вере Петровне. Несмело постучала, услышала хрипловатое «заходи!» и вошла, оставив у порога тяжёлую, набитую доверху сумку.
– Бабушка Вера, это я, Элеонора! Здравствуйте! Я к вам, как обещала.
– Здравствуй, здравствуй, – вышла навстречу старушка, посвежевшая лицом. – Ну, твой ночной гость? Совсем ушёл?
– Да, спасибо вам! Огромное спасибо! Всё растёт! – взволнованно начала Элеонора, но тут же смутилась и кивнула на сумку. – Я… привезла кое-что. Раньше я на курсы дизайна интерьеров ходила. Не пошло, не моё. А вещей накупила… Шторы вот — к нашим окнам не подошли… Полотенца, прихватки, пледы тёплые, посуда… Всё новое, хорошее, лежит без толку. Можно я вам подарю? У вас дом уютный, настоящий… деревенский, кантри. Эти тарелочки с васильками сюда идеально лягут! Давайте скатерть покажу? Вы потом сами разложите, как удобно…
Она снова лихорадочно принялась вытаскивать вещи, рассказывать и оправдываться, надеясь не обидеть хозяйку и не показаться жалостливой благодетельницей.
Вера Петровна не отталкивала. Смотрела молча — и лицо её темнело, становилось всё печальнее и строже. Наконец опустилась на табурет, сложила на коленях искривлённые артритом, натруженные руки.
– Положи, детка. Довольно, – сказала тихо. Голос прозвучал устало и виновато. – Ты девочка добрая, Леночка. Сердце открытое. А я… я тебя обманула.
Элеонора застыла, прижав к груди пёстрый тёплый плед.
– Что? Я… я утром в бассейне была, – растерянно прошептала, тронув мочку уха. – Вода, должно быть… Плохо слышу.
– Говорю: обманула я тебя, – повторила Вера Петровна, и голос её дрогнул. – Это я сама твоего покойника на участок привела. Я его к тебе позвала. Нарочно.
Лицо старухи исказили вина и стыд. Она сжалась, словно ожидая не просто укора, но и удара.
– Виновата я перед тобой, очень. Прости дурную старуху. Ты ко мне с добром, а я… – Она запнулась, подбирая слова. – Видеть я их умею. Приходят. Просят помянуть, родным весточку передать, на могилке порядок навести… А потом рядом ваши коттеджи выросли. Богатые, новые. И подумала я… не пропаду, если кто-то из вас, зажиточных, копеечку даст. Стара я, одна… То голодно, то холодно… Просто так денег никто не подаст — только за помощь. А в чём мой прок? Вижу то, чего другие не видят. Вот и попросила я одного доброго человека, Петра Степановича, он на кладбище забыт лежит, чтоб к тебе походил да потоптался. Чтобы земля не родила. А я за его могилой теперь ухаживаю, в благодарность. Он никому зла не хотел бы — тихий был человек. И свёрток я дала так, для вида: травы обычные… чтобы ты успокоилась, а он смог уйти. Прости меня, Леночка, прости. Не думала я, что ты такая… что ты такая… – Голос сорвался; она уткнулась взглядом в пол.
Элеонора не шелохнулась. В ушах стоял шум. Она смотрела на согбённую фигурку, на бедность, на отчаянную хитрость, порождённую голодом и одиночеством. В её глазах не было злости — только огромная, всеобнимающая жалость.
Она подошла, опустилась на корточки и накрыла своими ухоженными, тёплыми ладонями иссечённые морщинами, прожилками руки старушки.
– Я же говорила, бабушка… вода в уши попала, – очень мягко произнесла Элеонора, и по её щекам сами скатились слёзы; вытирать их она не стала. – Плохо слышала. Ничего не разобрала. Давайте лучше занавески повесим? И скатерть постелим, а? Не тревожьтесь. Со всем управимся. Я теперь буду приезжать часто. Очень часто.