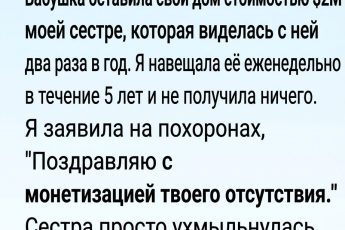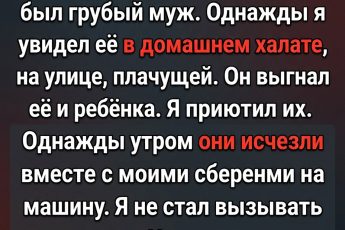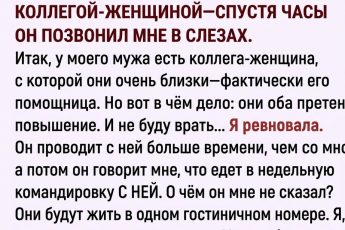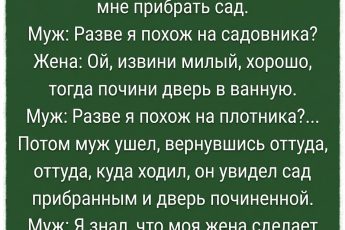Всё началось с мелочи, настолько привычной, что я не придала ей никакого значения: из-под стиральной машины потекла вода. Раздосадованная, но рассудительная, я позвонила в сервис. Приехал молодой мастер, быстро устранил неисправность, собрал инструменты. Я расплатилась, поблагодарила его и проводила к выходу.
Именно в этот момент всё пошло совсем не так, как должно было.
Уже стоя на пороге, он вдруг покраснел, замялся и протянул мне крошечный, аккуратно сложенный листок бумаги. Я машинально решила, что это забытая квитанция, и уже собиралась взять его, не глядя. Но, развернув, увидела всего одну фразу:
«Пожалуйста, позвоните мне. Это касается человека, которого вы знаете».
Первой реакцией было недоверие. Настолько сильное, что я почти выбросила записку. Но что-то меня остановило. Его опущенный взгляд, слегка дрожащие пальцы, неловкость — всё это не вязалось с какими-то странными играми. Его звали Рубен, на вид ему было около двадцати пяти. Тихий, вежливый, почти застенчивый. Он совершенно не походил на человека, который стал бы пугать загадочными посланиями женщину в удобной домашней одежде, стоящую среди горы одиночных носков.
На следующее утро любопытство победило сомнения, и я набрала номер. Он ответил сразу.
— Здравствуйте… это я… женщина со стиральной машиной, — сказала я и вдруг почувствовала себя неловко.
Он выдохнул с облегчением.
— Спасибо, что позвонили. Я не знал, как ещё это сделать. Скажите… вы знали человека по имени Феликс Дерен?
Это имя прозвучало так, будто из моих лёгких выкачали весь воздух. Я медленно опустилась на диван.
Феликс — мой бывший муж.
Мы не общались семь лет. После тяжёлого развода он уехал куда-то на запад, и, поскольку у нас не было ни детей, ни общего имущества, между нами установилась абсолютная тишина. Все говорили, что мне стало легче. И всё же когда-то я была уверена: он — мой мир.
— Да… — осторожно сказала я. — Я его знала. А почему вы спрашиваете?
Повисла пауза. Затем Рубен тихо произнёс:
— Он был моим отцом.
Я уставилась в стену, не в силах пошевелиться.
— Я не хотел вас напугать, — поспешно добавил он. — Я узнал об этом только несколько месяцев назад. Уже после его смерти.
Слово «смерть» упало тяжёлым камнем.
— Он… умер? — едва слышно спросила я.
— В феврале.
А на календаре был июнь.
Рубен рассказал, что Феликс жил в Сан-Луис-Обиспо, последние годы много писал картины и держался особняком. Его мать, Элира, когда-то недолго была с Феликсом, но так и не сказала ему, что у него есть сын.
— Он оставил коробку, — сказал Рубен. — В ней были письма, фотографии… и ваше имя.
Он спросил, можем ли мы встретиться.
На следующий день мы сидели в маленьком уютном кафе. Когда Рубен вошёл, в груди у меня болезненно сжалось: те же густые брови, тот же сосредоточенный, спокойный взгляд — Феликс смотрел на меня через него.
Рубен протянул мне потрёпанный конверт. Моё имя было написано почерком, который я когда-то знала лучше своего собственного.
Внутри оказалось письмо — четыре страницы.
Первая была извинением. За развод. За холодность. За то, что не нашёл в себе сил бороться за нас.
Вторая была наполнена воспоминаниями — настолько тёплыми и точными, что у меня защипало глаза. Он писал о том, как я напевала, складывая полотенца. О том, как плакала над глупой рекламой корма для животных и утверждала, что это просто аллергия.
Третья страница была о Рубене. О том, как всего за год до смерти Феликс узнал, что у него есть сын. О попытках связаться с Элирой. О молчании. О книгах, деньгах и записях, которые он оставил Рубену, надеясь, что тот однажды всё прочтёт.
Последняя страница была для меня. Он просил прощения, которого не ожидал получить. И просил — если Рубен когда-нибудь меня найдёт — быть к нему доброй.
«Он лучше, чем я когда-либо смог быть», — написал Феликс.
Я подняла глаза. Всё плыло. Рубен молча сидел напротив, давая мне ровно столько времени, сколько было нужно.
Мы продолжили общаться. Сначала редко, потом чаще. Он приходил чинить то мою скрипящую сушилку, то поломавшиеся разбрызгиватели. Я снова начала печь — занятие, от которого давно отказалась — и каждый раз отправляла его домой с угощениями.
Однажды вечером, сидя на веранде с лимонадом, он сказал:
— Я всегда хотел знать, каково это — иметь семью.
Я ответила честно:
— Я тоже.
С тех пор он звонил каждое воскресенье. Короткие разговоры — о рецептах, фильмах, рабочих новостях — постепенно сшивали между нами тихую, почти незаметную связь.
Через несколько месяцев он привёл свою мать. Я ждала напряжения, неловкости. Но Элира пришла с лимонным пирогом и улыбкой:
— Надеюсь, вы научите меня не сжигать корочку.
Она оказалась тёплой, прямой и немного сломленной чувством вины. Я не осуждала её. Люди часто делают неправильный выбор, когда им страшно.
Позже Рубен принёс два холста.
Один из них выбил из меня дыхание.
Это был мой портрет. Я — старше, мягче, с полуулыбкой, будто пойманная в моменте раздумья. Феликс написал его по памяти.
— Их много… — прошептал Рубен. — Десятки.
Я повесила картину в гостиной — не из тщеславия, а потому что она напоминала: я была тем, кого стоило помнить.
Рубен пригласил меня на выставку работ Феликса. Мы ехали с открытыми окнами под старую музыку.
В галерее одна картина почти подкосила меня. Она называлась «Последнее, что я помню».
На ней была наша старая кухня: утренний свет, чашка чая, недоеденный тост. На спинке стула висел мой красный кардиган.
Утро нашей самой тяжёлой ссоры.
Я не знала, что Феликс тоже помнил этот момент.
И не знала, что три года он тайно боролся с раком.