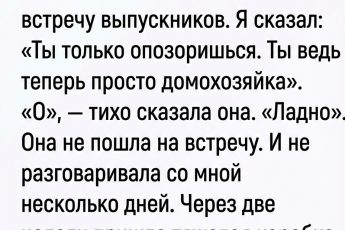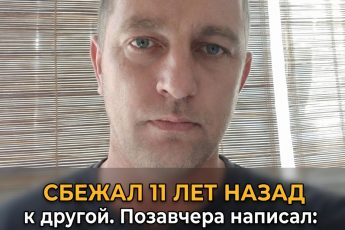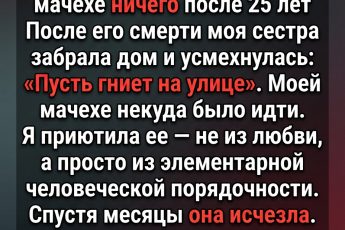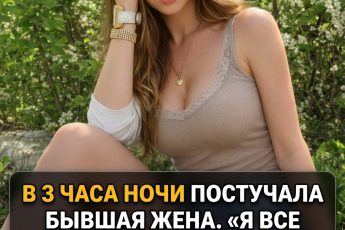Когда моей маме поставили диагноз «деменция», братья и сестры среагировали мгновенно — хладнокровно, собранно, почти по-деловому. За считанные дни они подобрали подходящий пансионат для пожилых и общались короткими, сухими фразами: цена, места, обязанности. Когда же я сказала, что хочу забрать маму к себе, они посмотрели на меня так, будто я добровольно шагнула в пропасть.
— Она ведь даже не понимает, кто ты, — осторожно произнёс брат, словно этим всё объяснялось.
— Зачем тебе ломать собственную жизнь? — поддержала сестра.
У меня не было заготовленных аргументов. Я просто чувствовала: когда мама смотрела на меня — потерянная, напуганная, будто ищущая опору, — она всегда тянулась к моей ладони. Этого было достаточно. Я увезла её домой.
Два последующих года стерли всё, что я раньше называла своей жизнью. Я лишилась работы — нормальный график стал невозможен. Деньги уходили на лекарства, специальные продукты, переделку дома, чтобы он стал безопасным. Ночи и утра перестали различаться. Иногда мама принимала меня за соседку, иногда — за свою сестру или за медсестру, которая вот-вот должна прийти. А порой она вдруг улыбалась и называла меня по имени — и это звучало как маленькое чудо.
Братья и сестры не приезжали ни разу. Совсем. Изредка приходили сообщения: «Ну как она?» — будто речь шла о погоде. Когда я просила поддержки, мне напоминали, что это был мой собственный выбор.
Когда мама ушла, они появились сразу. Аккуратно одетые, скорбящие, собранные. Завещание зачитали и поделили всё поровну. Я не стала возражать — сил не осталось. Я просто поставила подписи там, где указывали, и вернулась домой с ощущением глупости, словно наивно решила, что любовь имеет ценность, а оказалось — нет.
Через три дня раздался звонок. Незнакомый мужчина представился сотрудником банка и попросил прийти. Я решила, что это ошибка — бюрократическая неразбериха на фоне утраты. Но всё же любопытство взяло верх.
Он ждал меня с запечатанным конвертом. На нём был почерк мамы — дрожащий, неровный, но я узнала его сразу. Внутри оказался документ, оформленный двумя годами ранее. Пока братья и сестры обсуждали её «дальнейший уход», мама тихо открыла отдельный счёт и переоформила на меня право собственности на крупное доходное здание, о существовании которого я даже не подозревала.
Записка была совсем короткой:
«Тому ребёнку, кто остался», — было написано в ней. — «Я не могла дать тебе много при жизни, но я всё видела».
С юридической точки зрения всё принадлежало мне. Без оговорок.
Когда братья и сестры узнали об этом, их скорбь мгновенно сменилась яростью. Они говорили, что это нечестно, что мама была уязвима, что я якобы воспользовалась её состоянием. Возможно, им так проще было принять происходящее.
Но я знаю, как было на самом деле. Мама забывала многое — даты, имена, даже лица. Она могла искать очки, когда они уже были у неё на голове. Она путалась во времени года, в годе, иногда — в комнате, где находилась.
Но она никогда не забывала, кто был рядом.
Она помнила руку, которая держала её по ночам, голос, не терявший терпения, стул, придвинутый ближе, когда мир начинал распадаться. И, как оказалось, доброта ведёт свой счёт — даже тогда, когда память подводит.